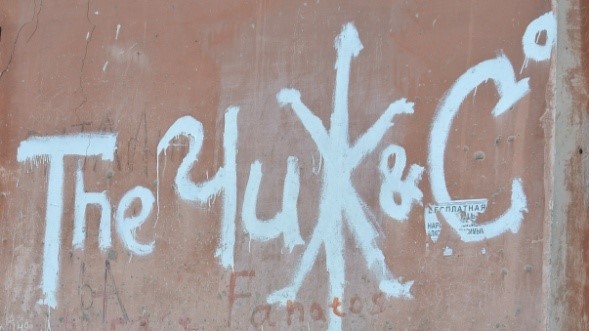- PII
- S013216250021396-8-1
- DOI
- 10.31857/S013216250021396-8
- Publication type
- Article
- Status
- Published
- Authors
- Volume/ Edition
- Volume / Issue 2
- Pages
- 72-82
- Abstract
Studies of the urban linguistic landscape have gained popularity in Western scholarship, and the author of the article seeks to show how this topic is faring in in Russian socio-humanitarian sciences. The history of the linguistic landscape studies in the socio-humanitarian sciences of Russia begins in the late 1990s. The scholars were interested in the presence of the ethnic communities languages that gave the name to the Russian republics in the visual space of cities. The dominance of the Russian language, an insignificant presence of national languages and the gradual penetration of foreign languages were revealed. The process of renaming streets and city objects in the second decade of the 2000’s is analyzed. This is explained by the desire of the city authorities to shape an image of the city and local identity. During these years, the theme of “the right to the city” began to develop. This right follows from the commodification of language. In recent years, Russian scientists have considered the linguistic landscape a means of representing social groups and the multilingualism of the city. An important contribution of domestic science a quantitative method for collecting empirical data on the linguistic landscape and classifying linguistic signs located on city streets.
- Keywords
- language landscape, Russian city, socio-humanitarian research, Henri Lefebvre, social space
- Date of publication
- 28.03.2023
- Year of publication
- 2023
- Number of purchasers
- 12
- Views
- 167
Языковой ландшафт (ЯЛ), определяемый как «язык общественных дорожных знаков, рекламных щитов, названий улиц, географических названий, коммерческих знаков магазинов и знаков на правительственных зданиях» [Landry, Bourhis, 1997: 25], является визуальным проявлением многоязычия городской повседневности. Его изучению в городах Европы, Азии и Америки посвящен значительный корпус текстов. Для обсуждения исследований создан международный журнал «Linguistic Landscape». Инициаторы проекта подчеркивают динамизм ЯЛ, влияние на него мотивов, практик использования языков, идеологий, противоречия разнообразных форм языков, отображаемых в общественных местах, и его растущую роль в языковых исследованиях. Вопрос о том, как указанные проблематизированные аспекты ЯЛ и иные исследовательские темы его изучения в отношении российских городов, отражен в социогуманитарных науках – по-прежнему открыт. Систематизация научных результатов и их критический анализ являются необходимым этапом эволюции научного знания. Цель статьи – раскрыть содержание и динамику научных идей по проблематике ЯЛ российского города. Работа призвана показать вклад прежде всего отечественных ученых в изучение наблюдаемых языков в городах России и ознакомить научную общественность с опытом их письменной визуализации в российском городском пространстве.
Пионерами изучения ЯЛ российского города являются лингвисты. С.В. Высотский, изучавший народный говор жителей советской Москвы [Высотский, 1984], впервые употребил понятие «языковой ландшафт» (1984). С этого времени отечественная лингвистика накопила обширный корпус исследований ЯЛ и внесла существенный вклад в разработку понятийно-терминологического аппарата, позволившего активно изучать городские номинации и тексты – объекты «урбонимии» и «лингвистического градоведения» [Ривлина, 2014: 110]. Обзор лингвистических исследований ЯЛ в России представлен в специальной публикации [Голикова, 2020]. В поле нашего исследовательского интереса – социогуманитарные науки и вклад их представителей в изучение ЯЛ российского города. Поскольку, например, социология языка и социолингвистика развиваются «в зоне соприкосновения друг с другом и с другими областями знаний об обществе, и происходит это в ситуации отсутствия жесткой демаркации границ и в режиме диффузии» [Мухарямов, Мухарямова, 2017: 151], мы не ставим задачу отраслевой идентификации научных изысканий в области изучения ЯЛ. Основой для их систематизации стал тематический принцип.
Поиск методики сбора эмпирических данных. Первые социогуманитарные изыскания по теме языкового ландшафта относятся к 1990-м гг. Исследователи вслед за лингвистами фиксируют визуально наблюдаемый язык, т.е. изучают языковые тексты на уличных вывесках, и одновременно проблематизируют вопрос об общественном измерении такой формы языка. Впервые этим заинтересовались исследователи из Чувашии [Долгова, 2002; Хузангай, 1999], обратив внимание на то, что через язык топонимии, текстов дорожных указателей, названий улиц, вывесок организаций, учреждений, предприятий и рекламы можно определить статус чувашского языка. Несмотря на то что в середине 1980-х гг. ЯЛ Чебоксар начинал заметно меняться в пользу чувашского языка, в 1990-х гг. он по-прежнему уступал русскому языку.
Идея о рассмотрении лингвистического материала (вывесок) как источника для анализа языковой политики в отношении миноритарных языков получает большое распространение в 2000-х гг. Исследования в Казани [Исмагилова, 2011], Улан-Удэ [Иванов, 2021], Уфе [Садуов, 2020], Якутске [Иванова, 2017; Минчурина, Сотникова, 2021], пгт Черский Республики Саха (Якутия) [Сидорова и др., 2014] выявили в перечисленных городах доминирование русского языка, увеличение присутствия, но недопрезентативность языков народов, давших названия республикам, ограниченность их использования государственными структурами и ситуацию когда «все остальные надписи является результатом творчества граждан, отражающем их предпочтения» [Protassova, 2021: 62].
В это же время появляются исследования, показывающие проникновение иностранных языков в ЯЛ Казани [Aristova, 2016], Улан-Удэ [Иванов, 2021], Красноярска [Трапезникова, 2009] и других крупных городов Сибири [Protassova, 2021]. Первыми такие языки стали использовать коммерческие заведения. Фиксируемое усиление разнообразия языкового пространства российских городов и субъективация агентов ЯЛ кристаллизовали вопрос о методике сбора эмпирических данных – как и какие письменные языковые тексты города нужно изучать. Если на первом этапе они случайным образом выдергивали интересные для них вывески (чаще официальные), то позже приходит понимание репрезентативности данных, обеспечивающей «…либо выборочную, согласно точным критериям, соответствующим целям исследования, либо полную/сплошную фиксацию материала» [Голикова, 2020: 159].
Методику сплошного обследования языково-визуального пространства города с использованием выборочного принципа отбора его улиц предложил исследователь Э. Алос-и-Фонт [Алос-и-Фонт, 2019]. Выборка улиц – случайная (необходимо иметь список всех городских улиц), учитывающая репрезентативность его центральных улиц выше средней (из-за их насыщенности учреждениями и имиджевой функции). Если улица имеет существенную протяженность, применяется случайная выборка кварталов и их сплошное обследование. Объектами анализа становятся неподвижные (исключаются изображения на транспорте, одежде людей), наружные (исключаются тексты внутри зданий), письменные языковые знаки, идентифицируемые как «часть письменного текста в пространстве определяемого кадра» [Ваckhaus, 2007: 66]. Этапы исследования: фотофиксация текста отдельного знака, кодирование фотографического материала, количественный анализ данных с помощью структурированной базы данных (см. Приложение).
Методика апробирована в городах Чувашии – Чебоксарах, Канаше, Цивильске, Ядрине, использована при изучении городов Татарстана – Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Чистополя, Зеленодольска [Алос-и-Фонт, 2019; Габдрахманова и др., 2015; Габдрахманова и др., 2016]. Представленный массив данных (Чувашия – 4405 фотографий, 12102 знаков, Татарстан – 5895, 12886) обеспечивает достоверность данных о ЯЛ городов республик и позволяет осуществлять их статистический анализ. Количественная стратегия изучения ЯЛ применяется и другими учеными [Былахырова, Собакина, 2022; Минчурина, Сотникова, 2021; Solnyshkina, Ismagilova, 2015].
Э. Алос-и-Фонт обращает внимание на время сбора эмпирических данных. Языковой облик города меняется во время предвыборных кампаний, спортивных мероприятий и иных значимых событий. Изучение ЯЛ города в динамичном аспекте предпринято Л.Л. Федоровой [2014]. Ее анализ текстов плакатов и лозунгов во время митингов и демонстраций в Москве выявил используемые участниками языковые средства воздействия - политического языка, народно-поэтического стиля, высокой поэзии, сленга.
Преобладающим направлением анализа содержания городского ЯЛ является изучение процесса переименования названий улиц, районов и городских объектов. Его черты – обновление социалистического ландшафта, связанного с дореволюционным прошлым, лозунгами советского периода [Пешкова, 2017: 111], рациональное использование урбанонимов для имиджирования и брендирования города и его объектов [Голомидова, 2019], распространение онимических моделей столичных городов на провинциальные [Разумов, 2016].
Обновление ЯЛ объясняется необходимостью формирования образа города и локальной идентичности. Исследователи отмечают усиление роли в этом процессе муниципальной топонимической политики, значения географического расположения города, его этнической структуры. Развитие экономических контактов Владивостока с Японией привело к появлению многочисленных вывесок, связанных с японским автопромом [Михайлюкова, 2017]. Несмотря на стремление предпринимателей из приграничного Выборга привлечь финских потребителей, городские власти исключают финский язык из общественных мест [Баранова, Федорова, 2020а: 633]. В полиэтничных городах имидживую функцию выполняет история и культура этнической общности, давшей название региону. В Улане-Удэ она отражена недостаточно [Бреславский, 2012: 141], в Казани не отказываются от советского наследия, но новые урбанонимы внедряются лишь на пригородных территориях, вошедших в административную границу города, в Грозном, Нальчике и Владикавказе наблюдается тотальный отказ от советских внутригородских наименований и активное внедрение урбанонимов, связанных с именами местных деятелей [Разумов, 2022]. В условиях социокультурной децентрализации и деунификации символический передел урбанонимов на Северном Кавказе осуществляется в пользу локальности, этнокультурности и родственно-кланового принципа [Тхакаков, 2017: 17]. Доминантные номинативные темы, свойственные отдельному городу, не всегда отражаются в названиях топографических объектов. Несвязный топонимический образ города характерен для Екатеринбурга [Голодомилова, 2022]. Разные нормативно-правовые стратегии властей российских городов в области урегулирования топонимики [Баранова, Федорова, 2020а: 629] зачастую носят декларативный характер [Габдрахманова и др., 2015: 53] и приводят к неоднозначному соотношению законодательства и практик ЯЛ [Баранова, Федорова, 2020а: 634].
Возникновение в последнее время темы «право на город» при изучении ЯЛ объясняется фиксируемым исследователями постепенным превращением языкового облика города и его объектов в товар. Коммодификация анализируется через стратегии номинации и столкновение интересов различных агентов – федеральной и региональных властей, руководителей предприятий, бизнеса, девелоперов, общественных организаций и простых жителей [Голомидова, 2020; Соколова, 2022]. Власть балансирует между необходимой (стандартизация наименований нужна для эффективного управления городом), но насаждаемой политикой номинации и правом жителей на выбор названий. Последними «инициативы о наименовании/переименовании названий территориальных единиц рассматриваются как один из инструментов борьбы горожан за право участвовать в принятии решений о производстве городского социального пространства и присвоении его объектов» [Терентьев, 2015: 200]. Активность возникает из-за ощущения потери идентичности, возникающей под влиянием вывесок, символизирующих западные стандарты жизни. Для предпринимателей тексты наименований объектов бизнеса выступают средством перестройки городских туристических и экономических потоков под коммерческие интересы [Иванов, 2021: 152; Каплунова, 2018: 260; Yurchak, 2000]. Городская коммерческая номинация характеризуется расширяющейся конфликтогенностью [Соколова, 2016: 85].
ЯЛ как средство репрезентации мигрантов в городе. Отечественные исследователи подчеркивают усложнение в постсоветское время языковой структуры российских мегаполисов и крупных городов. Оно объясняется усилившейся урбанизацией в республиках, простимулировавшей привнесение сельскими мигрантами национальных языков в языковую жизнь столиц [Дырхеева, 2022], миграцией из дальнего и ближнего зарубежья, ростом диаспор. Новая многоэтничная городская инфраструктура (кафе, магазины, рынки, специфические услуги для приезжих) развивается параллельно с письменным языковым обликом российских городов. На улицах появляется все больше текстов на языках мигрантов. Такая реальность диктует новую рамку исследований – понимание ЯЛ как «широкого процесса многоязычной коммуникации, в который оказываются вовлечены мигранты, представители языкового большинства и городское пространство» [Баранова, Федорова, 2020б: 51]. Вопрос о том, как выстраиваются многоязычные практики и коммуникативные нормы в российских городах становится трендом современных социогуманитарных исследований ЯЛ.
«Голос» мигрантов в ЯЛ может быть очень громким или едва слышимым [Синекопова, 2015: 45]. Он замеряется с помощью картографирования города [Баранова, Федорова, 2020б: 51] и наблюдений [Малькова, 2022: 74], фиксирующих распространение, динамику языков мигрантов в письменном пространстве города (путем изучения языка знаков и языка предоставляемых им услуг в транспортной, банковской, информационной сферах). Вовлеченность горожан в проблематику ЯЛ выявляется во время фокус-групп со студентами [Баранова, Федорова, 2020б; Руденкин, 2022]. Исследователи отмечают дисбаланс между многоязычием населяющих столицы людей и его визуальной репрезентацией в публичном пространстве [Баранова, Федорова, 2020б: 633] в сторону недопрезентативности миноритарных языков и доминирования русского языка [Хилканова, 2022], привыкание москвичей к присутствию разных языков в ландшафте города (особенно в транспорте [Малькова, 2022: 80]) вопреки стремлению московских властей сохранить имидж столицы страны как русского города [Fedorova, Baranova, 2018]. Подчеркивается роль ЯЛ в адаптации приезжих: Казань в сравнении с Санкт-Петербургом отличается «удобочитаемостью» (легкостью, с которой город может быть «прочитан» и понят среднеазиатским мигрантом) и разборчивостью (степенью узнаваемости по своему внешнему виду отдельных компонентов городской среды) [Nasritdinov, 2016]. Многоязычие города заметнее в звуковом ландшафте, чем в письменном, все более распространяющаяся речь мигрантов является раздражающей частью ЯЛ [Хилканова, 2022]. Он начинает оцениваться как средство диагностики языковой политики и происходящих в городском пространстве социальных процессов.
Сравнение ЯЛ городов ограничено небольшим числом исследований. Ученые проводят аналогии между Москвой и Санкт-Петербургом [Баранова, Федорова, 2017], городами республик [Алос-и-Фонт, 2019; Габдрахманова и др. 2016], Северо-Кавказского округа [Разумов, 2022; Тхакаков, 2017] и регионами [Алос-и-Фонт, Махмутов, 2016]. Перспективным видится сравнение ЯЛ городов и их объектов в России и зарубежных странах [Цзинпэн, 2021; Лифэнь, Цзюань, Яцянь, 2019].
Выводы. Анализ научно-исследовательской работы отечественных представителей социогуманитарных наук показывает, что ЯЛ – это не только совокупность языковых текстов, нанесенных на материальные, видимые объекты города. Это поле языковой политики, маркер присутствия социальных групп в публичном пространстве города, арена борьбы интересов вовлеченных акторов. Отечественным ученым удалось выявить степень письменного присутствия языков в российских городах, изменения в содержании вывесок, происходящих под влиянием региональных и городских политик, направленных на формирование локальной идентичности и образа города, коммодификацию ЯЛ, транслирование большими городами в малые моды на наименования. Оценена роль объективных факторов – расположения города и его этнической структуры. Важным вкладом видится созданная количественная методика сбора эмпирических данных и классификация знаков. Ученых объединяют методы изучения ЯЛ - наблюдения, совершаемые во время прогулок по городу, и фотофиксация вывесок. Наблюдается дефицит исследований о вовлеченности/отчуждении горожан от этой части повседневной жизни города, о подвижных письменных знаках и содержании ЯЛ в социогуманитарной перспективе.
ЯЛ отражает специфику города и является важным источником для понимания происходящих в нем разнообразных политических, социальных и культурных процессов. Изменение границ межкультурного общения и масштаба языковых контактов зеркально отразится на ЯЛ российских городов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Примеры знаков
References
- 1. Aristova N. (2016) English Translations in the Urban Linguistic Landscape as a Marker of an Emerging Global City: The Case of Kazan, Russia. Procedia – Social and Behavioral Sciences. No. 231: 216–222.
- 2. Ваckhaus P. (2007) Linguistic Landscapes: A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters.
- 3. Baranova V., Fedorova K. (2017) (In)visibility and (non) existence: labor migrants and the St. Petersburg linguistic landscape. Gorodskiye issledovaniya i praktiki [Urban Studies and Practices]. Vol. 2. No. 1: 103–121. (In Russ.) DOI: 10.17323/usp212017103-121
- 4. Baranova V.V., Fedorova K.S. (2020b) Growing visibility: migration and transformations in Saint Petersburg’s linguistic landscape. Laboratorium. Zhurnal sotsialʹnykh issledovaniy [Laboratorium. Russian Review of Social Research]. Vol. 2. No. 1: 48–80. (In Russ.) DOI: 10.25285/2078-1938-2020-12-1-48-80
- 5. Baranova V.V., Fedorova K.S. (2020а) Regulation of the language landscape in Russian cities: multilingualism and inequality. Zhurnal issledovaniy sotsialʹnoy politiki [The journal of social policy research]. Vol. 18. No. 4: 625–640. (In Russ.) DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-4-625-640
- 6. Breslavsky A.S. (2012) Post-Soviet Ulan-Ude: cultural space and images of the city (1991–2011). Ulan-Ude: Publishing House of the Buryat State University. (In Russ.)
- 7. Bylyakhyrova L.V., Sobakina I.V. (2022) Mutual influences of the Yakut and Russian languages on the territory of the city of Vilyuisk of the Republic of Sakha (Yakutia). Altaistika [Altaistika]. No. 2 (05): 37–48. (In Russ.)
- 8. Dolgova A.P. (2002) To the question of the state of ergonymy in the conditions of bilingualism (on the example of the city of Cheboksary). In: Onomastics and languages of the Ural-Volga region: Proceedings of the regional conference. Cheboksary, November 13-14, 1997. Cheboksary: ChGIGN: 29–37. (In Russ.)
- 9. Dyrkheeva G.A. (2022) Buryat language in Ulan-Ude. In: International Round table "Urbanization and language space of the city: new challenges in the XXI century". Moscow, September 19-20, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbhZk6ABjDg&list=PLMlxxldt8fIovwZDnisdSIcU0DLT7A7Na (accessed 11.25.22). (In Russ.)
- 10. Fedorova K., Baranova V. (2018) Moscow: diversity in disguise. In: P. Heinrich, D. Smakman (eds) Urban Sociolinguistics. The City as a Linguistic Process and Experience. Routledge: 221–237.
- 11. Fedorova L.L. (2014) Language landscape: the city and the crowd. [Bulletin of the Novosibirsk State University. Series: History, Philology]. Vol. 13. No. 6: Journalism: 70–80. (In Russ.)
- 12. Gabdrakhmanova G.F., Makhmutov Z.A., Sagdieva E.A. (2015) State languages of the Republic of Tatarstan in the region’s linguistic landscape. Kazan: Publishing house of the Institute of History named after Sh. Marjani of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan; Artefakt. (In Russ.)
- 13. Gabdrakhmanova G.F., Sagdieva E.A., Makhmutov Z.A. (2016) Ethno-linguistic landscape of the cities of the Republic of Tatarstan. In: State languages of the Republic of Tatarstan: multiplicity of measurements. Kazan: Institute of History. Sh. Marjani AN RT: 121–164. (In Russ.)
- 14. Golikova A.A. (2020) Methodology of linguistic and landscape studies in Russia: analytical and thematic review. Vestnik tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya [Bulletin of the Tver State University. series: Philosophy]. No. 4 (54): 149–166. (In Russ.)
- 15. Golomidova M.I. (2020) Toponymic image of urban spatial objects. Voprosy onomastiki [Problems of onomastics]. Vol. 17. No. 3: 263–278. (In Russ.)
- 16. Golomidova M.V. (2019) Urbanonyms as a resource for managing the perception of urban space. Kommunikativnyye issledovaniya [Communicative Research]. Vol. 6. No. 1: 11–30. (In Russ.) DOI: 10.25513/2413-6182.2019.6(1).11–30.
- 17. Golomidova M.V. (2022) Municipal Toponymic Policy and Issues of Urban Toponymy Development. In: International Round Table "Urbanization and Language Space of the City: New Challenges in the 21st Century". Moscow, September 19-20, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbhZk6ABjDg&list=PLMlxxldt8fIovwZDnisdSIcU0DLT7A7Na (accessed 11.25.22). (In Russ.)
- 18. Hèctor Alòs i Font (2019) Written use of languages in the social space of the cities of the Chuvash Republic In: D.V. Egorov (eds) Chavash halakh istoriiyepe kulturin sivech yytavesem: articlesen pukhkhi = Topical issues of the history and culture of the Chuvash people: a collection of articles. Vol. 4. Cheboksary: ChGIGN: 153–182. (In Russ.)
- 19. Hèctor Alòs i Font, Makhmutov Z.A. (2016) Theoretical and methodological foundations of a quantitative study of the linguistic landscape of Russian cities (on the example of the cities of the Republic of Chuvashia and Tatarstan). In: O.G. Vladimirova, A.M. Ivanova (eds) Ashmarin readings: collection of works of the X International Scientific and Practical Conference (Cheboksary, October 20-21, 2016). Cheboksary: Chuvash University Press: 99–104. (In Russ.)
- 20. Ismagilova G.Kh. (2011) Linguistic features of visual and information attributes of the city in the framework of the implementation of the law on the languages of the Republic of Tatarstan: Dis. cand. philol. sciences. Kazan. (In Russ.)
- 21. Ismagilova N.V. (2007) The language of the city of Ufa: the functioning of various language subsystems and bilingualism. Ufa. (In Russ.)
- 22. Ivanov V.V. (2021) The Buryat language in the linguistic landscape and language practices in Ulan-Ude. Sotsiolingvistika [Sociolinguistics]. No. 1 (5): 147–163. (In Russ.) DOI: 10.37892/2713- 2951-2021-1-5-147-163
- 23. Ivanova N.I. (2017) Sociolinguistic aspects of the functioning of the Yakut language in Yakutsk: figures and facts. Monograph. P.A. Sleptsov (eds.). Moscow. (In Russ.)
- 24. Jingpeng L. (2021) Research of the linguistic landscape and its analysis in Russia and China. Sovremennaya nauka: aktual'nyye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnyye nauki. [Modern Science: Actual Problems of Theory and Practice. Series: Humanities]. No. 7: 162–167. (In Russ.) DOI 10.37882/2223-2982.2021.07.21
- 25. Kaplunova M.Ya. (2018) Functional development of the Chinese and Vietnamese languages in Moscow. Acta Linguistica Petropolitana [Acta Linguistica Petropolitana]. Vol. XIV, part 3. Saint-Petersburg: OR RAN: 153–162. (In Russ.)
- 26. Khilkhanova E.V. (2022) The Language of Social Networks of Migrants from Central Asia in the Context of Russian Urban Multilingualism. In: International Round Table "Urbanization and Language Space of the City: New Challenges in the 21st Century". Moscow, September 19-20, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbhZk6ABjDg&list=PLMlxxldt8fIovwZDnisdSIcU0DLT7A7Na (accessed 11.25.22). (In Russ.)
- 27. Khuzangay A.P. (1999) The problem of the linguistic existence of the Chuvash ethnos and the prospects for language policy In: Problems of the national in the development of the Chuvash ethnos. Cheboksary: ChGIGN, 1999: 88–106. (In Russ.)
- 28. Landry R., Bourhis R.Y. (1997) Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology. Vol. 16. No. 1: 23–49.
- 29. Lifen L., Juan Wu, Yaqian Zh. (2019) Comparison of the spatial configuration of the linguistic landscape of Chinese and Russian universities. Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics]. No. 5 (77): 185–192. DOI 10.26170/pl19-05-20. (In Russ.)
- 30. Malkova V.K. (2022) Ethno-cultural diversity of the capital of Russia or "Whoever you behave with, that's what you'll get.". Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- 31. Manchurina L.E., Sotnikova Yu.V. (2021) Translation of texts of signboards as a realization of bilingualism in the Republic of Sakha (Yakutia) (on the example of the city of Yakutsk). Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul'turologiya [World of Science. Sociology, philology, cultural studies]. No. 1. URL: https://sfk-mn.ru/PDF/04FLSK121.pdf (accessed 11.27.22). (In Russ.)
- 32. Mikhailyukova N.V. (2017) Names of auto business enterprises in the language of the city of Vladivostok: genre aspect. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Chelyabinsk State University]. No 3: 51–58. (In Russ.)
- 33. Mukharyamov N.M., Mukharyamova L.M. (2018) Language and Society. Encyclopedia. Moscow: OOO "Metatext", 2017. Sotsiologicheskie Issledovaniya [Sociological research]. No. 12: 149–153. (In Russ.) DOI: 10.31857/S013216250003180-1
- 34. Nasritdinov E. (2016) ‘Only by learning how to live together differently can we live together at all’: readability and legibility of Central Asian migrants’ presence in urban Russia. Central Asian Survey. Vol. 35. No. 2: 257–275.
- 35. Peshkova N.P. (2017) Linguistic landscape of a polyethnic city: Peculiarities of verbal influence. Voprosy psikholingvistiki [Journal of Psycholinguistics]. No. 3 (33): 108–125. (In Russ.)
- 36. Protassova E.Yu. (2021) Interculturality in the Modern Russian Linguistic Landscape. Philological Class. Vol. 26. No. 2: 52–67. (In Russ.) DOI: 10.51762/1FK-2021-26-02-04
- 37. Razumov R.V. (2016) Typology of models of urbanonymic systems of the Russian Federation. Vestnik Kostromskogo universiteta [Bulletin of the Kostroma University]. No. 4: 121–125. (In Russ.)
- 38. Razumov R.V. (2022) Urbanonymic system of a polylingual city. In: International Round table "Urbanization and linguistic space of the city: new challenges in the XXI century". Moscow, September 19-20, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbhZk6ABjDg&list=PLMlxxldt8fIovwZDnisdSIcU0DLT7A7Na (accessed 11.25.2022). (In Russ.)
- 39. Rivlina A.A. (2014) Interaction of English and Russian languages in the linguistic landscape of a modern Russian city. Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki na Dal'nem Vostoke [Social and humanitarian sciences in the Far East]. No. 2 (42): 110–115. (In Russ.)
- 40. Rudenkin D.V. (2022) What the youth of a large Russian city knows and thinks about vandalism: the case of Yekaterinburg. Sotsiodinamika [Sociodynamics]. No. 6: 47–62. DOI: 10.25136/2409-7144.2022.6.34435 (In Russ.)
- 41. Saduov R.T. (2020) Field study of the cultural and linguistic landscape in the national republic: description and justification of the project. Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika [Ecology of language and communicative practice]. No. 1: 23-29. (In Russ.) DOI: 10.17516/2311-3499-098
- 42. Sidorova L.A., Ferguson D., Vallikivi L. (2014) Linguistic landscape of the northern village as a product of cultural industries (for example, the village of Chersky of the Republic of Sakha (Yakutia). In: M.L. Magidovich (eds) Modern models of the development of cultural industries in the regions of Russia. Saint-Petersburg: Russian State University. A.I. Herzen: 195–204. (In Russ.)
- 43. Sinekopova G.V. (2015) Linguistic minorities in the linguistic landscape of Moscow. Vestnik Rossiyskogo novogo universiteta [Bulletin of the Russian New University. Series: Man in the modern world]. No. 2: 45–49. (In Russ.)
- 44. Sokolova T.P. (2016) Commercial urbanonyms of Russia in the aspect of naming expertise. Tsennosti i smysly [Values and meanings]. Vol. 1. No. 6 (46): 79–86. (In Russ.)
- 45. Sokolova T.P. (2022) Commodification of the toponymy of modern Moscow in the sociolinguistic aspect. In: International Round Table "Urbanization and language space of the city: new challenges in the XXI century". Moscow, September 19-20, 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XbhZk6ABjDg&list=PLMlxxldt8fIovwZDnisdSIcU0DLT7A7Na (accessed 11.25.22). (In Russ.)
- 46. Solnyshkina M., Ismagilova A. (2015) Linguistic Landscape Westernization and Glocalization: the case of Kazan, Republic of Tatarstan. XLinguae Journal. Vol. 8 Iss. 2: 36–53.
- 47. Terentiev E.A. (2015) Toponymic activism and the “right to the city”: sociological notes. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya. [Tomsk State University Bulletin. Philosophy. Sociology. Political science]. No. 1 (29): 194–202. (In Russ.) DOI 10.17223/1998863Х/29/21
- 48. Tkhakakhov V.Kh. (2017) City Map: Symbolic Transformation of Space in the North Caucasus. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociologi¬cal Studies]. No. 5: 17–25. (In Russ.)
- 49. Trapeznikova A.A. (2009) To the question of the classification of ergonyms (based on the commercial names of Krasnoyarsk). Mir nauki, kulʹtury, obrazovaniya [World of science, culture, education]. No. 2 (14): 68–70. (In Russ.)
- 50. Vysotsky S.S. (1984) About the Moscow folk dialect. In: Urban vernacular. Problems of study. Moscow: 22–37. (In Russ.)
- 51. Yurchak A. (2000) Privatize your name: symbolic work in a Post-Soviet linguistic market. Journal of Sociolinguistics. Nо. 4 (3): 406–434.