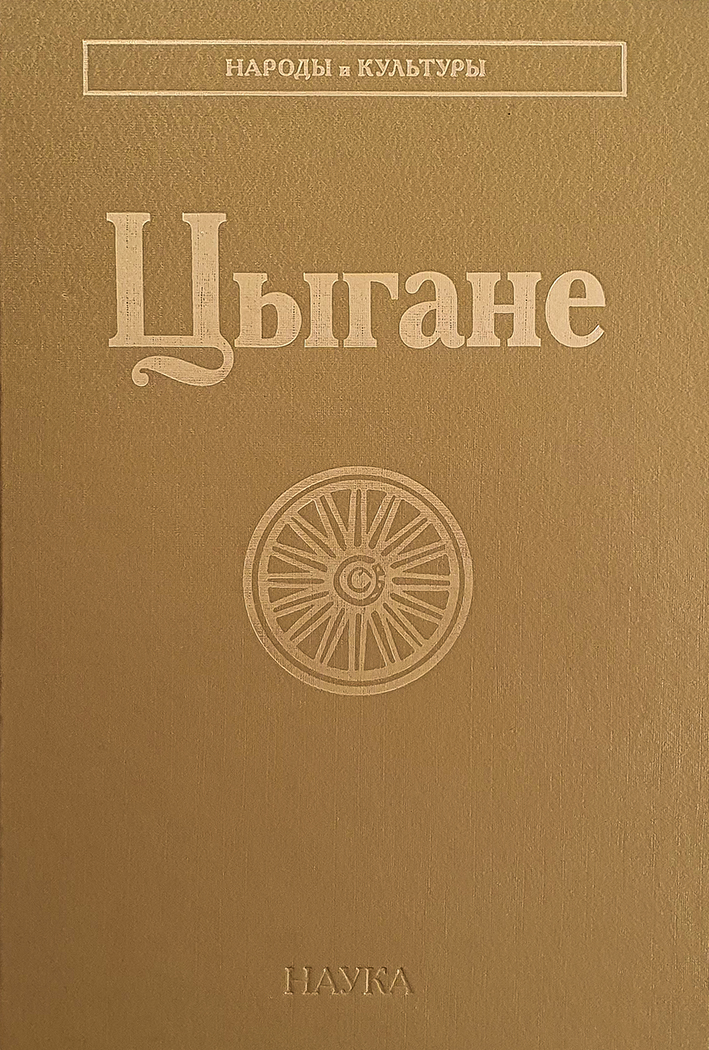- Код статьи
- S086954150013604-4-1
- DOI
- 10.31857/S086954150013604-4
- Тип публикации
- Рецензия
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / №1
- Страницы
- 196-201
- Аннотация
- Ключевые слова
- Дата публикации
- 25.02.2021
- Год выхода
- 2021
- Всего подписок
- 23
- Всего просмотров
- 508
Цыгане / Отв. ред. Н.Г. Деметер, А.В. Черных. М.: Наука, 2018. 614 с.
В академической серии “Народы и культуры”, основанной в 1992 г. (отв. редактор В.А. Тишков, отв. секретарь Л.И. Миссонова), вышла в свет коллективная монография “Цыгане”, ставшая важным событием в области отечественного и – не побоимся громкого слова – европейского этнологического цыгановедения. В России, равно как и за рубежом (прежде всего во Франции, Великобритании, Сербии и других странах), ежегодно издается довольно много работ по отдельным группам цыган (Stewart 2013; Ослон 2018), однако в фокусе научных интересов большинства специалистов находятся частные вопросы языка, культурной и социальной антропологии, социологии и т.д., и практически совсем не публикуются исследования, посвященные широкому комплексу этнографических проблем с обобщающим анализом всего тезауруса материалов (однако есть исключения, см., напр.: Tcherenkov, Laederlich 2004).
Каждый этнолог, занятый исследованиями в Европе или на других континентах, осведомлен в той или иной степени касательно цыган. При изучении любого народа либо социальной, конфессиональной и другой группы рано или поздно “всплывают” факты их контактов с цыганами, и в этом ряду фиксируемых меморатов, суждений, предрассудков, ксенономинаций и проч. встает вопрос: а кто они такие, эти цыгане, Roma, Gypsies, jitanos, jevgjit etc.? Представленная коллективная монография ставила своей задачей ответить нам на этот непростой вопрос.
Авторскому коллективу тома “Цыгане” под руководством ответственных редакторов Н.Г. Деметер и А.В. Черных удалось на достаточно высоком профессиональном уровне представить широкую палитру истории, мифологических и религиозных воззрений, культурного разнообразия, языка и идентичности цыган Российской империи и Советского Союза, современной России и сопредельных стран – бывших республик СССР и др. Большой объем издания (53,3 уч.-изд. л.) позволил включить самые разнообразные темы, традиционные для серии “Народы и культуры”. Книга – как задуманный обобщающий труд по этнографии цыган – получилась фактологически насыщенной, содержательной и в высшей степени востребованной в современной научной среде. Коллективная монография, в написании которой приняло участие 17 авторов, состоит из 14 глав (каждая из которых посвящена подробному изложению конкретной темы) и снабжена введением, глоссарием и исключительно информативным иллюстративным рядом.
Практически все главы книги написаны на основе полевых материалов их авторов, что существенно повышает качество исследования в методологическом плане. При этом исследователи не “шифруют”, как это принято в последние десятилетия у западных антропологов, своих информантов, а указывают их имена, возраст, место и время сбора данных, что, в свою очередь, вызывает доверие читателя к излагаемому материалу.
Однако в коллективных монографиях в большинстве случаев, к сожалению, наблюдается определенный диссонанс в теоретических подходах, терминологии, основных методах исследования. В томе “Цыгане” подобных нестыковок, несмотря на старательную работу редакторов, также не удалось избежать. Так, с самого начала не был выработан подход к определению цыганских групп со времени их переселения из северо-западных районов Индостана: они называются то кастами, то кастовыми группами, то джати (?), то этническими группами и т.п. Сейчас мы не имеем в виду сложение цыганских общностей в процессе этногенеза в первые века н.э. Речь идет о ситуации и времени, когда данные общности двинулись с насиженных мест в далекий путь на Запад. Известным российским индологом Е.Н. Успенской была предложена теория индийской касты, на ее монографию (которая легла в основу текста докторской диссертации, защищенной в МАЭ РАН в 2010 г.) авторы рецензируемого тома неоднократно ссылаются. Однако неясно, почему они не приняли точку зрения авторитетного специалиста:
Существовал и сегодня остается актуальным кастовый (изоляционистский, сегрегационный) способ социального взаимодействия между специализированными по своим “жизненным предназначениям” общинно-клановыми структурами, в ряду которых высшей выступает джати (jāti, санскр. “рождение, происхождение, порода”); она и послужила “прототипом” касты, является базовой функциональной ячейкой индийского традиционного общества и придает ему “кастовую” специфику, делает его сегментированным ˂…˃ Джати типологически аналогична племени и обладает этнической и социальной ипостасями, является эссенциальной формой этнической консолидации и одновременно базовым структурным модулем индийской социальной организации (Успенская 2010: 6–7).
Возвращаясь непосредственно к тексту рецензируемой книги, отметим самые важные темы, затронутые в ее исторических, этнологических, лингвистических и “окололингвистических” разделах. Прежде всего это очень важный вопрос об этнической идентичности и этническом самосознании цыган (раздел об этом написан крупными болгарскими этнографами Еленой Марушиаковой и Веселином Поповым). В данном концептуальном и ключевом по смыслу разделе (несколько выпадающем в методологическом и стилистическом планах из книги в целом) отмечаются некоторые существенные именно для цыган как этнического сообщества моменты. Можно указать, в частности, на то, что, как справедливо пишут авторы, “конкретная групповая идентичность проявляется только тогда, когда представители одной группы встречаются с другими группами цыган” (с. 517), а в противном случае она существует как бы в латентном виде. Верным представляется и противопоставление – в плане идентичности – цыган Западной Европы, с одной стороны, и Восточной (в особенности Юго-Восточной) Европы, с другой. В первом случае цыгане в гораздо большей степени обособлены и маргинализированы (и их просто меньше в количественном плане). Эти их особенности привели в конечном счете к их смешению с другими кочующими группами неиндийского происхождения. В качестве замечания можно отметить, что авторы довольно резко возражают против развиваемого в западной антропологии конструктивистского подхода к определению цыганской общности. Признавая справедливость некоторых из их аргументов, заметим, что как раз ситуация, сложившаяся в странах Юго-Восточной Европы, демонстрирует адекватность именно конструктивистского подхода: здесь цыганские по своему происхождению, но перешедшие на язык окружающего населения (прежде всего албанский) группы объявляют себя особыми этносами с собственной этнической историей. Такими группами являются египтяне (Албания, Северная Македония, Косово, Черногория, позиционируют себя в качестве потомков древних египтян) и ашкали (Косово, считают себя потомками выходцев из Ирана, переселившихся на Балканы в IV в. н.э., фиксируются и другие этногенетические легенды). Любопытно, что классические “примордиалистские” признаки – общее происхождение и т.п. – сами оказываются важными элементами конструирования этнического самосознания.
Важнейшим компонентом этнической самоидентификации цыганских сообществ является, разумеется, язык. Однако разные группы цыганского населения достаточно сильно отличаются по этому признаку друг от друга. Существуют сообщества, перешедшие на языки окружающего населения, но сохранившие свою “цыганскую идентичность”. У групп, сохраняющих “родной язык”, он может играть достаточно разную роль – от языка лингвистически доминирующего до языка субдоминантного (последнее, по-видимому, характерно для некоторых групп “русских цыган”). Наконец, существуют цыганские диалекты, сочетающие собственно цыганскую лексику и грамматику языков окружающего населения; по своим социолингвистическим параметрам такие диалекты приближаются к арго (на территории России они как будто бы не представлены). Возможно, в разделах коллективной монографии, посвященных цыганскому языку, стоило бы чуть-чуть подробнее рассмотреть вопросы, связанные с его социолингвистическим статусом.
В России сложилась уникальная ситуация: на ее территории представлены старожильческие группы цыганского населения, использующие говоры, принадлежащие ко всем четырем большим цыганским диалектным макрогруппам, консенсусно выделяемых современной цыганологией. Цыганским диалектам на территории России посвящен содержательный обзор. Особую ценность этому разделу придает то, что он во многом опирается на профессиональные полевые исследования его авторов (см., напр., параграф К.А. Кожанова о практически не исследованном до этого диалекте плащунов – единственном представителе на территории России центральной макрогруппы цыганских диалектов [с. 167]).
В силу самой специфики рецензируемой книги проблемы, связанные с цыганским языком, находятся в какой-то степени на ее периферии. Тем не менее надо указать, что они рассматриваются компактно, но содержательно и на высоком научном уровне. Так, языку посвящена специальная глава “Цыганский язык и его диалекты”, написанная К.А. Кожановым и В.В. Шаповалом (оба автора являются выдающимися знатоками цыганских диалектов, бытующих на территории России). Кроме того, языковедческая проблематика в разной степени затрагивается и в других разделах издания (раздел “Этногенез и ранняя этническая история” главы “Основные этапы этнической истории”, написанный Г.Н. Цветковым; раздел “Идентичность цыган между Западом и Востоком” главы “Современные этнокультурные процессы” авторов Е. Марушиаковой и В. Попова). Специальный раздел рассматривает художественную литературу на цыганском языке (И.Ю. Махотина). В последнем речь идет, в частности, о проекте “создания” литературного цыганского языка, “стандартизированного” в конце 1920-х годов и ликвидированного в 1938 г. За это время на цыганском языке было издано около трехсот книг (общественно-политическая, учебная, художественная литература), выходили, хотя и нерегулярно, два общественно-литературных журнала. Эксперимент этот, по-видимому, следует признать скорее неудачным как по внешним (этот литературный язык вскоре был запрещен!), так и по внутренним причинам – в качестве базы для литературного языка был избран чрезвычайно сильно интерферированный севернорусский цыганский диалект, совершенно чуждый большой части цыганского населения СССР. Когда один из авторов настоящей рецензии проводил в 80-е годы прошлого века полевую работу среди цыган Ленинградской области, он убедился, что носители севернорусского диалекта совершенно не подозревают о том, что когда-то существовал цыганский литературный язык и на нем издавались книги. Тем не менее изданная на цыганском языке литература содержит достаточно богатый, хотя и специфический языковой материал. В последние годы был создан лингвистический корпус, включающий большую часть опубликованных в те годы текстов (о чем, кстати, не было упомянуто в монографии).
Глава “Календарные праздники и обряды” (А.В. Черных, К.А. Кожанов, Г.Н. Цветков, И.Ю. Махотина, Я.А. Панченко) могла бы быть, учитывая этнологическую специфику всей серии “Народы и культуры”, более объемной. Однако в этой главе представлена достаточно сжатая информация по теме, сегментированная по различным группам цыган с очевидной фокусировкой на исповедующих православие (что объясняется фактом их численного превосходства). В основном авторы касаются обрядов зимнего и весеннего циклов, при этом информация об отмечании Нового года, украшении новогодней елки и проч. преподносится без малейшей оговорки о том, что данная традиция относительно нова и берет начало лишь в ХХ в., а широкое распространение получает среди народов СССР лишь в период после Великой Отечественной войны. Во всей коллективной монографии совсем мало сведений содержится о цыганах, исповедующих ислам. В главе, посвященной календарной обрядности, о традициях цыган крымов читатель находит лишь один краткий абзац.
Более подробно изложен материал в главе “Семья и семейный быт” (Н.Г. Деметер), но и в ней речь идет в первую очередь о цыганах православных. Что происходило и происходит в семейной обрядности мусульман, остается, нужно полагать, в планах для дальнейших исследований. Так, среди обрядов перехода, важных для антропологического описания, вовсе не упомянут обряд обрезания. Однако данная тема, весьма актуальная и важная для столь многопрофильного издания, почти не затронута.
В целом конфессиональной принадлежности цыган и бытующим у них народным верованиям уделено не так мало внимания в различных разделах монографии, есть и особая глава “Религиозно-мифологические представления” (А.В. Черных, К.А. Кожанов). В них анализируется довольно обширный материал как архивного, так и полевого плана. Однако нигде не встречается напрашивающийся сам собой вывод: цыгане в своем большинстве принимали религию доминирующего в государстве этноса. Так, в Византийской империи цыгане были христианами, с приходом османов и установлением на пять столетий турецкого господства на Балканах цыгане в своем большинстве приняли ислам (при этом турки как этнос не представляли статистического большинства в структуре местного населения, но они, являясь мусульманами, автоматически входили в референтные группы огромной империи, т.е. имели прямое отношение к административным ресурсам разного рода и управлению). Не желая попасть под прессинг государственной машины, цыгане, и без того испытывавшие значительную дискриминацию в условиях феодального общества, переходили в ислам, желая освободить себя от непомерных налогов и иных повинностей, существовавших во все периоды правления султанов для тех, кто не являлся мусульманами. В Российской империи цыгане также очень быстро адаптировались в конфессиональном плане, примкнув к вере православного большинства. Фактом, подтверждающим изложенное, является то, что группы цыган, исповедовавших христианство в форме католичества на территории Польши, переселившись в Россию, очень быстро перешли в православие (об этом как раз говорится в коллективной монографии [с. 364]).
Важным для цыган было сохранение своих мифологических представлений и своей веры – если можно, назовем ее “цыганством”, или “цыганской душой”. Возможно, поэтому авторы данной рецензии, задавая вопросы о конфессиональной принадлежности цыган в различных аудиториях магистрантам и аспирантам главных университетов страны (отметим, что даже не бакалаврам!), никогда не получают даже приблизительно верный ответ. “Наверное, у них какая-то своя вера!” – наиболее часто звучит из аудитории. Учитывая этот факт, представленная коллективная монография “Цыгане” является очень актуальной и нужной нашему обществу.
Издание, претендующее на полноту освещения цыганской тематики, трудно представить без специального раздела, посвященного золоту в культуре и мифологии. И в данном томе такой параграф (“Золото в обычаях и обрядах”, автор – Н.Г. Деметер) присутствует. Более того, дизайн оформления самой книги – блестящий золотой шрифт текста на фоне матового золота обложки – делает заявку на освещение особой роли драгоценного металла в системе традиционных ценностей цыган. Золото, как справедливо отмечает автор раздела, служило средством накопления, приумножения богатства, мерилом ценностей и мифологизированным драгметаллом, прочно вошедшим в верования и культуру цыган. Эта роль сохраняется у данного материала до настоящего времени, большинство представителей цыганского сообщества на обширной территории бывших Российской империи/Советского Союза и современной России предпочитают золото в качестве средства накопления всем валютам и прочим активам. Также справедливо предположение автора о том, что истоки такого гипертрофированного отношения к данному металлу нужно искать на территории Индостана, откуда вышли цыгане. (От себя добавим, что среди индийцев именно золото на протяжении тысячелетий являлось мерилом ценностей – в отличие, скажем, от Китая, где вплоть до ХХ в. основным эквивалентом расчетов и средством накопления богатства было серебро, а золото являлось лишь товаром, цена на который менялась в зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка.) Однако не менее важным и очевидным было и влияние системы ценностей, сложившейся в Византии и позднее – в Османской империи. Ориентальная страсть к роскоши и демонстрации богатства, свойственная референтным группам сменявших друг друга государственных образований в Юго-Восточной Европе и Малой Азии, оказывала на цыган не меньшое влияние, чем принесенные из Индии традиции.
В заключение хочется отметить, что книга снабжена огромным количеством иллюстраций, которые качественно атрибутированы и позволяют представить мир цыганской культуры во всем его богатстве и многообразии. Фотоиллюстративный ряд (архивные, музейные отпечатки, фотографии из семейных альбомов, снимки, сделанные авторами А.В. Черных, Д.И. Вайманом и др. в экспедициях, проводившихся на протяжении многих лет) исключительно обогащает издание и делает его познавательным и ценным.
Библиография
- 1. Ослон М.В. Язык котляров-молдовая. Грамматика кэлдэрарского диалекта цыганского языка в русскоязычном окружении. М.: ЯСК, 2018.
- 2. Успенская Е.Н. Антропология индийской касты. СПб.: Наука, 2010.
- 3. Stewart M. Roma and Gypsy “Ethnicity” as a Subject of Anthropological Inquiry // Annual Review of Anthropology. 2013. Vol. 42. P. 415–432.
- 4. Tcherenkov L., Laederlich S. The Rroma, Otherwise Known as Gypsies, Gitanos, Gyphtoi, Tsiganes, Ţigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol. 1 2. Basel: Schwabe Verlag, 2004.